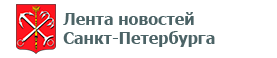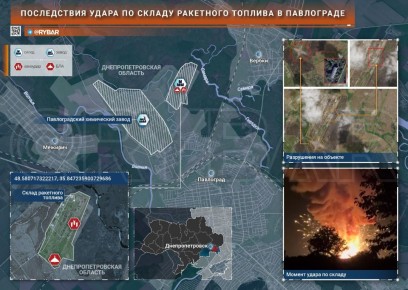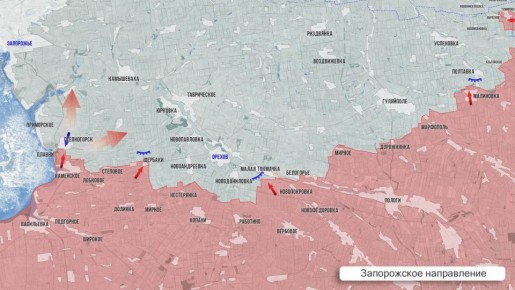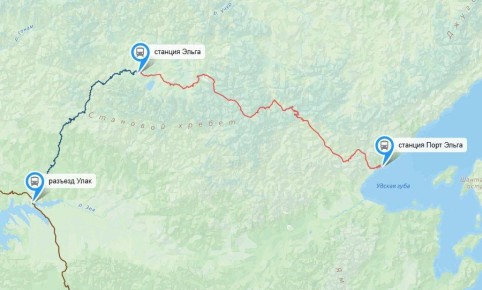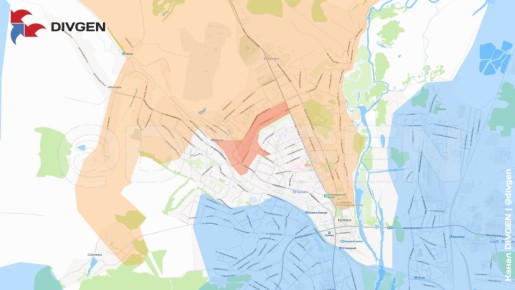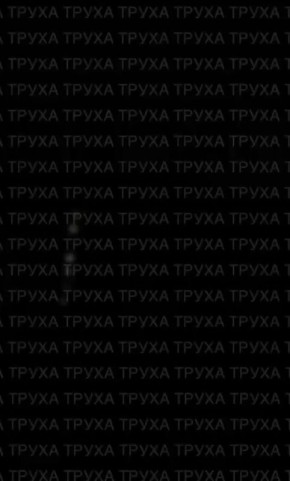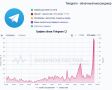Из почты. Здравствуйте, Марат Фаатович! По научным интересам и роду деятельности специализируюсь на православии, так что хочу включиться в дискуссию.
Напомню, что концепт «священной войны» был оформлен католической традицией с присущим ей юридизмом в определении греха, и служил он во многом снятию с воинов грехов военного времени, что способствовало вовлечению широких масс в политические авантюры Римско-католической церкви. Для православия подобный подход остался чужд — в нашей традиции грех убийства остается на совершившем его, а хорошо известное 13-е правило святителя Василия Великого рекомендует трехлетнее воздержание от Святого Причастия для убивавших воинов. И несмотря на то, что человеколюбием военного духовенства многих на фронте сегодня причащают, концептуальное противоречие по-прежнему сохраняется. Признать конфликт священным и отпустить сопутствующие ему прегрешения — значит взять на себя чрезвычайную духовную смелость знания истины и человеческих сердец. А это область ведения Божьего, и не нам здесь судить.
Тем более, что даже существовавшая в византийской традиции типологически сходная со «священной войной» идея «христолюбивого воинства» применялась в ходе противостояний с зороастрийцами и мусульманами, явно отрицавшими веру во Христа, но вовсе не в битвах православных византийцев с православными же болгарами. Конфликт одних православных с другими не может быть освящен. А с учетом того, что украинское население во множестве своем сохраняет верность православию, назвать СВО «священной войной» крайне проблематично.
Наконец, сам предстоятель Русской Церкви неоднократно заявлял, что священность войны может быть только метафизической и пролитие крови не может называться святым. Но говорил он и о том, что «положить душу свою за други своя» — высочайший человеческий подвиг.
Поэтому, думается, все же не надо нам все упрощать и делать черно-белым. Многомерность и сложность православия, позволяющего человеку на войне быть одновременно и праведным, и виновным — великая ценность. С уважением,
Владимир.