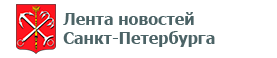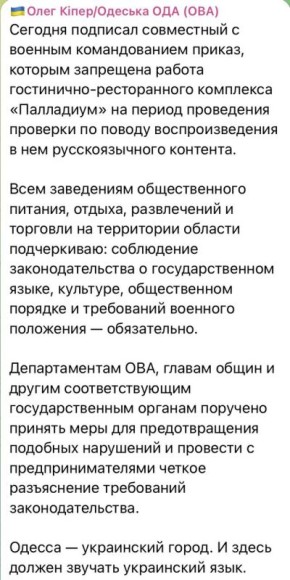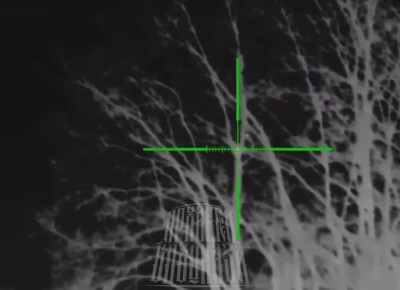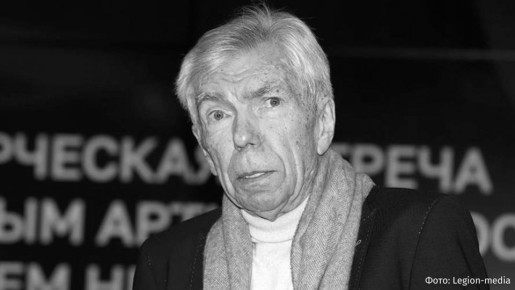О технологиях (форме) и реальных процессах (содержании). Часть первая
Коллеги начали интересную дискуссию (тут, тут и тут) по вопросу соотношения политических технологий, обеспечивающих контроль и управляемость политических процессов, и реальной политической повесткой, движения политической жизни в происходящих внутри России сюжетах. Все сходятся в том, что «развитие избирательных технологий в России и работа на внутриполитическом поле продолжает идти по пути чрезмерного акцента на технологии в ущерб смысловому наполнению».
С этим трудно поспорить. Можно даже больше сказать, что технологии управления достигли своего пика и тотального совершенства, при этом политическая жизнь в том смысле, в котором это понятие используется в политологии, практически совсем исчезла. Простой пример – когда приближаются выборы в Госдуму идет серьезная медийная борьба за победу. Вместе с тем, по большому счету, это все отвлечение для пролов, чтобы было на что посмотреть. Реально для власти нет никакой проблемы в том, в каких пропорциях в Госдуме будут представлены нынешние пять партий. Потому что технологии управления и контроля.
Скажу крамольную мысль, что даже если у КПРФ будет 40-50% депутатов Госдумы, голосовать эта партия будет не хуже «Единой России». Почему? Просто это такая же партия власти как и Единая России, только с другим содержанием для сбора своей электоральной ниши. Просто обрежут наиболее радикальные пункты из своей программы и станут подлинными социал-демократами. А это и есть ЕР в нынешнем виде. Тоже самое будет, если победят, например, «Новые люди». Очень быстро они трансформируются в социал-демократов, а их место на правом фланге займет новая партия.
Почему и откуда такие метаморфозы? Да все очень просто. Первое. Наши партии очень слабо связаны со своим базовым электоратом. Второе. Все пять партий, представленных в Госдуме, это все филиалы власти, каждая со своей Башней в Кремле. Поэтому разногласия имеют сугубо тактический и медийный характер. Третье. Все партии – это партии крупного и среднего капитала. Даже КПРФ. Настоящее название КПРФ должно было бы выглядеть следующим образом – Партия крупного коммунистического капитала (ПКККРФ).
Кто-то скажет – парадокс, не может быть «коммунистического капитала». Очень даже может, отвечу я. Ибо вполне могут быть капиталисты, собственники средств производства, которые являются коммунистами по своим внутренним убеждениям. Почему бы и не побыть коммунистом, будучи долларовым миллиардером или миллионером? Во-первых, это красиво. Имеешь в собственности маленькую промышленную или финансовую империю, попивая в 10 часов утра за завтраком кофе с круасанами, принесенное горничной, в то время как пролы в 6 часов утра уже встали и в 8 утра у станка, и при этом красиво рассуждаешь о коммунизьме для всех.
Примеров, и в новейшей истории России, и в те полтора десятилетия, которые предшествовали Октябрьской революции, – полно: текстильные магнаты Александр Коновалов и Савва Морозов, банкиры и промышленники Павел Рябушинский, Никита Второв, Алексей Путилов, Михаил Терещенко, Гаврил Кржижановский и т.д.
Во-вторых, если кто-то будет с этим не согласен, то приведу последний аргумент в этом споре, вишенку на торте – современный Китай, в котором под покровом коммунистической идеологии капиталистические формы экономических и финансовых отношений не просто существуют, а являются главной движущей силой беспрецедентного экономического роста. Эта гибридная модель, где, типа, «невидимая рука рынка» действует в рамках жёсткой «видимой руки» партийного руководства КПК, на деле демонстрирует, что политическая монополия коммунистической партии и капиталистическая экономика не только совместимы, но и могут создавать мощнейшие синергетические эффекты.
Вторая часть тут.