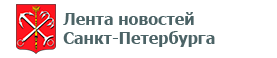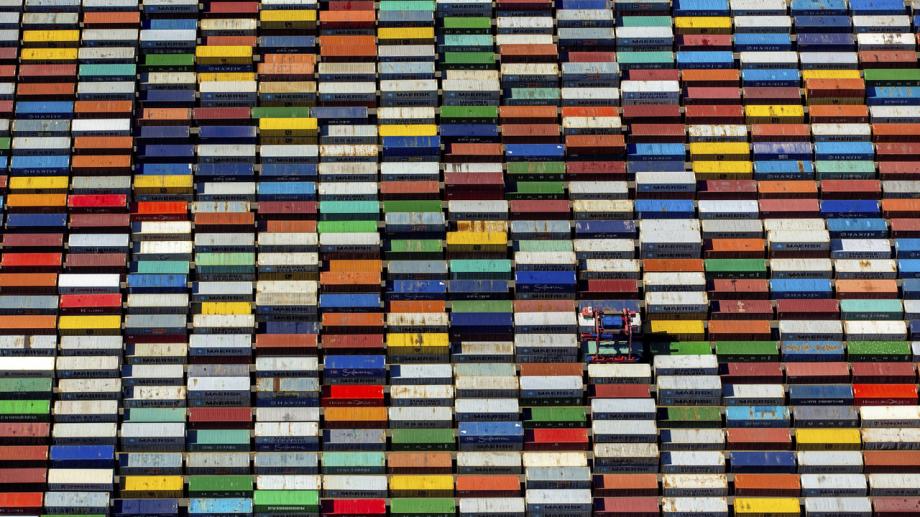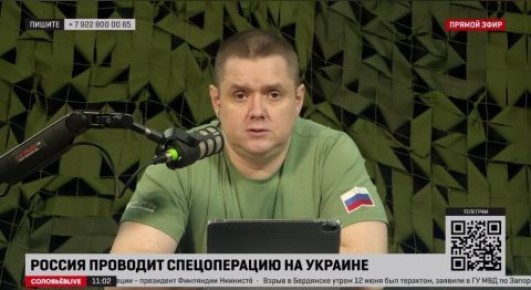DGAP (ФРГ): Будущее мира — за "технологично-демократическими" кластерами
Лойл Кэмпбелл и Джон Остин из Германского совета по международным отношениям (DGAP) советуют Берлину и ЕС сосредоточиться на создании того, что можно описать как "кластер технологий и ресурсов". Сейчас ресурсы и технологии находятся в руках Китая, США по-прежнему обладают технологиями, а у Европы нет ни того, ни другого. Как же исправить дело?
Кэмпбелл и Остин видят мировое будущее в виде альянсов государств, которые перестраивают свои цепочки поставок и расширяют "системы совместного производства с демократиями и другими странами, которые хотят укрепить основанный на правилах экономический и политический порядок". И призывают Европу поскорее реализовать соглашения о свободной торговле с Канадой и Латинской Америкой — игнорируя то, что думают по этому поводу европейские же (!) фермеры.
Раз пошли такие заявления, то опасность ощущается как быстрая и реальная. Что, впрочем, разумно. Идея раздробления мира на несколько кластеров, где есть одновременно ресурсы, технологии и рынки, далеко не нова. Но примечательно, что даже цитадель европейской мысли пришла к выводу о неизбежности именно кластерного варианта будущего — безо всякой гегемонии США и доминирования "Глобального Запада". XXI век обнажил совершенно другие зависимости и ключевые точки на карте, нежели привычные Западу за последние столетия.
Однако тут есть сомнительные детали. DGAP предлагает объединение тех игроков, которые заинтересованы вокруг ВПК (это понятно) и… зелёных технологий, которые якобы сулят рынок в $2 трлн. В результате чего должна-де возникнуть идеологическая и технологическая спайка демократических государств, которые "дадут ответ" Китаю, России и прочим, кто использует "государственный капитализм".
Вот только, хоть ты тресни, но литий, кобальт, графит, редкоземельные металлы — всё равно сконцентрированы в Китае, Африке и Латинской Америке. Попытки же friendshoring — размещения добычи у союзников — сталкиваются с политической нестабильностью, инвестиционной неокупаемостью и социальной напряжённостью. Без реального доступа к сырью кластеры превращаются в технологические "оболочки", по-прежнему зависимые от внешнего мира.
Кроме того, инвестиции в "зелёную индустриализацию" имеют долгую окупаемость, часто 10+ лет. А в так называемых демократических системах со сменой власти от плохой к худшей сложно обеспечить политически устойчивое финансирование на таких горизонтах. Тем более, что инфляция, рецессии и войны отвлекают бюджеты на срочные нужды, обескровливая долгосрочные "зелёные" проекты.
Попутно DGAP намекает на скорые похороны глобализации. Потому что "кластер технодемократий" предполагает деглобализацию, недопуск "авторитарных" стран к ключевым рынкам и технологиям, а также формирование "зон совместимости" и "не совместимости". Всё это, разумеется, уже никак не похоже ни на ВТО, ни на "открытый рынок". Кластеризация требует двойных стандартов — одновременно проповедовать универсальные ценности и строить закрытые клубы.
Для России вывод однозначен. Нам либо нужно строить свой собственный технологический кластер, либо придётся вливаться в чей-то другой. Но в любом случае стране требуется максимальный технологический суверенитет, развитая промышленность, ориентированная на постоянную эволюцию и инновации, и грамотное распределение ресурсов.
Есть о чём подумать.