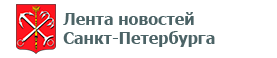На днях писал, что талибы полностью отключили Афганистан от интернета решением Министерства по делам поощрения добродетели и предотвращения порока. Как я подчеркивал, этот случай в очередной раз показывает, что понятие «традиционных ценностей» у разных народов и культур может сильно различаться, и далеко не все формы их выражения совпадают с нашими представлениями.
Разумеется, нет заведомо плохих народов или религий, хотя нам и сложно подчас понятьлогику некоторых действий, совершаемых во имя традиций и веры. Так, те же талибы в 2001 году взорвали знаменитые статуи Будды в Бамиане — памятники, простоявшие почти полторы тысячи лет. Такое варварство можно объяснить (не оправдать) нетерпимостью к чужой вере. Гораздо сложнее объяснить разрушение мусульманских святынь самими мусульманами. В Саудовской Аравии ваххабиты в начале XX века уничтожили кладбище Аль-Баки в Медине, где были похоронены родственники и сподвижники пророка Мухаммеда. По их представлению, надгробия — это проявление идолопоклонства.
По сходной логике действовали боевики ИГИЛ, разрушавшие мечети, мавзолеи и античные памятники Пальмиры, в том числе храм Бела и триумфальную арку. В 2012 году такие акты вандализма были совершены в Мали: исламисты уничтожили гробницы суфийских святых в Тимбукту, за что позже Международный уголовный суд признал одного из организаторов виновным в военном преступлении. Большинство исламских богословов по всему миру осудили такие действия, считая их не возвращением к «чистому исламу», а проявлением радикализма и невежественного фанатизма.
Тем не менее именно эта крайняя версия «традиционализма» нередко навязывается и у нас — например, в виде ношения никаба. Хотя аль-Азхар, один из главных центров исламского богословия, еще в 2009 году запретил никаб в своих учебных корпусах, а совет улемов Пакистана в 2015-м подчеркнул, что закрытие лица не является обязательным требованием шариата, в России он постепенно стал восприниматься некоторыми проповедниками как «правильный» исламский дресс-код. При этом в арабских странах он встречается крайне редко: в Иерусалиме, например, его чаще можно увидеть на манекене в лавке, чем на прохожих.
Даже в Саудовской Аравии известная поп-певица Зейна Имад выходит на сцену без лица, закрытого никабом. В странах Центральной Азии, напротив, действуют строгие законы против одежды, ассоциирующейся с радикальными исламскими течениями — от Таджикистана до Узбекистана. Это делает Россию для некоторых мигрантов привлекательной не только благодаря уровню жизни, но и из-за отсутствия подобных ограничений, чем нередко пользуются представители радикальных групп.
Однако вопрос не в тотальном отказе от свободы или в ужесточении норм. Проблема в том, что под видом «возвращения к традиции» нередко внедряются формы религиозного экстремизма, не имеющие отношения к аутентичной культуре российских мусульманских народов.
Истинные традиции должны жить не в запретах, а в примере лучших представителей разных народов - образованных, талантливых и религиозно зрелых людей — ученых, врачей, артистов, инженеров, которые способны показать, как можно гармонично сочетать веру, культуру и современный мир.